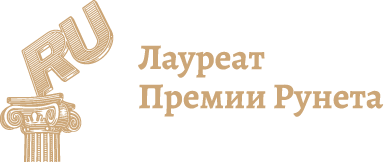Эдвард Радзинский: Я и в истории драматург

Эдвард Радзинский задумался о судьбах бытия.
Фото: PHOTOXPRESS
Драматург, исторический писатель, рассказчик, звезда телевидения.
На Пасху он едет в Иерусалим, потом его маршрут: Пермь-Екатеринбург-Санкт-Петербург. Этим собирается завершить концертную деятельность, чтобы целиком погрузиться в писательскую. У него по-прежнему грандиозные планы, он должен все успеть.
Мы давно знакомы, потому на «ты».
Я пришла к нему в День архива.
Карамзинская мечта
- Ты знаешь, что сегодня День архива?
- Нет. Но, видимо, я это почувствовал. Во всяком случае на этой неделе я буду выступать в моей Альма-матер – бывшем Историко-Архивном институте.
- Я слышала, что в Интернете посетители портала Рамблер избрали тебя «Человеком десятилетия» в разделе «История» – с Истории и начнем. Твоя первая пьеса написана, когда ты был студентом Историко-архивного, – что стало стимулом? Завоевать девушку, обрадовать папу с мамой, натянуть нос друзьям?
- Все не так. Я не собирался быть историком. В пьесе «Снимается кино» я честно изложил свое понимание судьбы историка в стране, которая называлась СССР. Маленький монолог, касавшийся реального человека, звучал так: Я начинал историком в 20-е годы, моя первая работа была о Шамиле – «Шамиль как вождь национально-освободительного движения», но уже в 30-х годах взгляды переменились, и Шамиль стал называться агентом империализма, и я признал свою ошибку, но во время Отечественной войны он снова стал считаться вождем национально-освободительного движения, и я признал своей ошибкой то, что признал ошибкой, но в 49-м году он снова стал считаться агентом империализма, и я признал ошибкой то, что я признал ошибкой то, что я признал ошибкой свою ошибку. Этого безумия я не хотел. Я отлично знал, что история у нас являлась, как точно определил историк Покровской, политикой, обращенной в прошлое. Суди сама, за 70 лет – примерный возраст жизни одного человека – у нас было три цивилизации: царская, большевистская и нынешняя. И каждая новая стремилась не только отменить прежнюю, но и переписать историю, и делала это по нескольку раз. Один историк, назову его В. из уважения к нему, успел написать в юности, какой величайший гений был Сталин, после перестройки – какой он был монстр, но какой гений Ленин, и незадолго до смерти – какой монстр был Ленин. Причем в этом страшноватом фарсе не было притворства. Он искренне менял убеждения вместе со страной. Я таковым быть не собирался. Я, сколько себя помню, всегда хотел писать и поступал в Историко-архивный с определенной целью. Цель эта называлась Карамзин. Карамзин при жизни не был почитаем в исторической науке. Наоборот, историки относились к нему с огромной настороженностью. Я все это знал. Но также знал, что имена этих историков давно канули в Лету, а его имя бессмертно. Ошибка их в том, что они судили искусство с точки зрения науки. Но будучи прежде всего писателем, Карамзин был и историком, проделавшим титанический труд .Его влияние огромно. Он открыл историю России для России, сделав ее зримой для общества, не ведавшего до него своей Истории. И в Достоевском, в его Федоре Карамазове я чувствую влияние Карамзина, его портрета Ивана Грозного. Он осуществил то, о чем я мог только мечтать: дал возможность современникам совершить путешествие во времени…
- И ты с шестнадцати лет желал стать современным Карамзиным, то есть никакие девушки и никакие случайности…
- Я никогда не путал разные темы. И начал я с поиска темы, а не формы. Я стал искать героя. И нашел человека, невероятно загадочного, он жил в ХУ111 веке, который меня очень занимал. По причине… как бы объяснить… если вся эпоха бежит за прогрессом, так что прогресс за ней не поспевает, я делаю шаг или в сторону, или назад. Я не люблю ходить по полю…
- …вытоптанному другими...
- Нет, Эйзенштейн сказал ярче: на котором уже насрали. В то время все бредили неореализмом, Трамвайные лица актеров невероятно ценились. «Современник» гремел и потому, что его актеры имели подлинные лица. Они произносили текст, как на улице, и в этом были правы. Но я собрался быть неправым. Я хотел писать в традициях г-на Шекспира и, что совсем ужасно, примитивного г-на Скриба…
- Соединить высокое с расхожим?
- Для меня необычайно важно было именно высокое. То, что на улице не произносится и к трамвайным лицам как бы отношения не имеет… Идея высока, но интрига должна быть захватывающей… как у презренного Скриба. Искал я это в ХУ111 веке, помня фразу Талейрана: кто не жил в ХУ111 веке, тот вообще не жил. Галантный век, со всей его утонченной французской эротикой, от которой я был тогда без ума, со всеми нашими пылкими и грубыми страстями… я знал замечательную фразу об Алексее Орлове…
- Фаворите Екатерины?
- Нет, фаворитом был Григорий. А это его брат, красавец со шрамом, полученном в чудовищной драке, Дон Жуан, соблазнивший княжну Тараканову, он привез ее в Петропавловскую крепость на гибель. О нем современник сказал: «Я не поручил бы ему ни жены, ни дочери, но я мог бы свершить с ним великие дела». В том самом ХУ111 веке я нашел уже на первом курсе Института неизвестную тогда фигуру – Герасима Лебедева, основавшего… это очень смешно… на краю света, в Индии, первый индийский постоянный театр европейского типа. История Лебедева – это театр в театре. Тогда для меня она была умозрительна, не современна – какой современной она стала бы сейчас! Ибо это история человека, который из феодальной страны попадает в рыночные отношения. Во владения Ост-Индской компании. И он никак не может понять, что театр – это бизнес. А он живет искусством. И становится жертвой хитроумной бальзаковской интриги, где действуют непонятные ему векселя и акции .Этого не понимал и я. Для меня были главными романтические события, происходившие с ним, Любовь и Искусство. Я написал пьесу белыми стихами. А так как я жил напротив Театра юного зрителя, я отдал пьесу туда. На обсуждении никому неизвестный актер Ролан Быков, он играл в театре заблудших двоечников, мальчишей-плохишей, произнес: путь нашего театра лежит через Индию. Все были в полном восторге.
- Сколько тебе было лет?
- Девятнадцать. Впоследствии Лебедев стал моей дипломной работой, она была опубликована в журнале «ЮНЕСКО-информейшн» на многих языках. После чего мне написал письмо индийский профессор, его звали Магадев Прасад Саха, он тоже изучал Лебедева, и мы обменивались документами. Пьесу, конечно, никто бы не поставил, если бы Никита Хрущев не отправился в Индию. Никогда в моей жизни не было такого количества хвалебных статей. И такого провала. Юные зрители выдержали этот ужас 14 раз, после чего спектакль сняли.
Мужчина и женщина
- Какой ты был в это время – застенчивый, разбитной, замкнутый, печальный, книжный, выпивающий?
- Я был точно такой, каким ты видишь меня сейчас. Я всегда помнил замечательную фразу Сенеки: живи так, чтобы тебя хотя бы узнавали. Я защищался и никогда не позволял обстоятельствам себя менять. Я умел быть легкомыслен в трудные минуты и гнал от себя тяжелые переживания – они не по мне. Я старался не понимать того, что угрожало, потому что знал: никогда не раскланивайтесь с горем, пока оно за углом. И нельзя никому завидовать, это самый пагубный путь.
- Хорошо легкомыслие, с такими твердыми устоями.
- Главное – сочетание того и другого. Я изо всех сил старался не понимать серьезности и опасности вещей, в которые ввязывался. И гнал от себя чувство неуверенности. Подумай, может ли нормальный человек решиться написать пьесу о Сократе? Меня встретил Олег Ефремов и спросил: чем ты занимаешься? Я сказал: вот пьесу о Сократе закончил. Он говорит с изумлением: как, ты пишешь Сократ – двоеточие – и за него слова?! И только тут я понял, насколько я кощунственно легкомыслен. Но, к счастью, я уже написал пьесу.
- Кто тебя таким воспитал? Откуда ты взялся?
- Я в себе часто узнаю интонации отца, хотя внешне я на него не похож. Мама была очень занятый человек, она была старший следователь 106-го отделения милиции, и каждый раз, когда я приносил похвальную грамоту, она спрашивала: это значит, тебя перевели? Отец был человек грандиозной - той культуры Он подавал блестящие надежды, мечтал баллотироваться в Учредительное собрание – революция все перечеркнула. Но в нем никогда не было озлобления, он жил мудро, как герой Анатоля Франса из романа о Французской революции « Боги жаждут» Ирония и сострадание – это был его девиз, которому старался следовать и я.
- То есть у тебя была советская мама и…
- Она была очень талантлива – блестящий следователь по уголовным делам. Но думающий по-французски папа, выпускник знаменитой Ришельевской гимназии, был мне ближе. К нему приходил Юрий Карлович Олеша, другой выпускник той же гимназии, и они часами беседовали. Моя задача была – подслушивать. Пока они не переходили на французский. Или на латынь. Они были учениками классической царской гимназии, а я ученик нашей школы, которая справедливо называлась « средней».
- Ты понимал, что ты, с твоим папой и твоими целями, отдельный?
- Хуже нет – думать об этом. Олег Даль говорил о себе: я не народный, я инородный. Но чем больше ты инородный, тем меньше ты должен об этом думать. Позволять себе эти мысли значит постоянно предъявлять претензии миру а, стало быть, постоянно разрушать себя. Этого делать ни в коем случае нельзя… После неудачного первого опыта я понял: надо писать не об Индии ХУ111, но о себе. Надо было сделать себя одним из всех, и я сделал. «Вам 22, старики»,. «104 страницы про любовь», «Снимается кино» – исповедальные пьесы.
- Но твой главный герой – не ты, твой главный герой – женщина.
- Мне не интересны мужчины. В женщине – хаос, безмерность, она всегда безумно интересна. Она может быть проста, но и в этой простоте - сложность. Мужчина если и сложен, все равно очень прост. Как сказал с отчаянием знакомый бомж: женщина все видит в другом цвете, я вижу желтое, а она зеленое. Писать мужчине о женщине – это путешествовать на другую планету. Рисунок Магритта, который меня восхищает, – женщина, сдирающая с себя своего мужчину, она им одета, как платьем, и она ногтями пытается его содрать, и он, как обгорелая кожа, сходит с нее… и все равно остается. Моя героиня – это Женщина, которая не может жить, если нет Любви. Это во всех моих пьесах. У них в мозгу есть особая клеточка – уменье любить. В результате – постоянные очарованья и разочарования , счастье и несчастье, но она , как Ванька-Встанька, после каждого поднимается и – продолжает делать то же самое.
- Но это же и в тебе. В тебе есть эта клеточка, которая всякий раз возобновляется, только ты всякий раз находишь новый предмет, но это постоянная любовь.
- У Пикассо есть моя любимая фраза: если бы мне нечего было любить, я любил бы ручку от двери. Я убежден, что художник творчески умирает, когда заканчивается любовь. Этот восторг перед миром, он очень связан с любовью. Восторг и доброта. « Он постоянно влюблен и оттого доброжелателен» – это Бисмарк об Александре 11. Я не знаю, правильно ли я понимал своих героинь, но я уверен, что все эти пьесы были объяснением в любви. Причем они могли быть злыми, но я все равно ими восхищался .«Мне приснился сон: мой экс-любимый Саша полетел на дирижабле по проспекту Вернадского и в этот момент позвонила ты, и я так и не узнала самое интересное : разбился ли он…» Это начало пьесы « Я стою у ресторана – замуж поздно, сдохнуть рано »…
- Самое время спросить тебя о личном. Каждая новая пьеса – новая женщина?
- Самое время тебе ответить: моя личная жизнь – всегда за занавесом Я слишком уважаю женщин, которые наградили меня счастьем быть с ними,.и никогда не позволю, чтобы их имена стали достоянием всех.
- Но твоя главная женщина известна: Таня Доронина, жена.
- Татьяна Васильевна Доронина была моей женой. Моя жена – Елена Прекрасная. На этом – все.
Письмо Маркеса
- Как ты перешел к истории в драматургии и в прозе?
- С какого-то времени мне потребовался собеседник. Мне скучно было жить в стране, где не с кем разговаривать, ибо необразованность давно стала синонимом лояльности. Произошло «организованное понижение культуры». «Улица корчится безъязыкая». Мне нужно было придумать, как вернуться к себе. Я слишком от себя ушел в сочиненного мною современного молодого человека. И я понял – вернуться к себе означало вернуться в Историю. И пьеса «Беседы с Сократом» была абсолютно искренней – это были мои беседы с Сократом. Я взял «Диалоги» Платона и начал на эти темы писать свои диалоги. Сократ, который, как известно, не написал ни строки, остался символом философии. Он доказал куда большее, чем «рукописи не горят». Он доказал, что «слова не исчезают…». Слово несет энергетику. Он доказал могущество слова. «Вначале было Слово». И Платон, записывавший за ним, ничего не придумал – там все время Сократ. Я начал с гротеска о Сократе, а пришел к пьесе-биографии Сократа. Я не унизился до того, чтобы писать о современности под видом истории Сократа. Хотя, кончив пьесу, абсолютно понимал, что параллели будут. Тогда был судебный процесс над Даниэлем и Синявским. Но меня – по обычному легкомыслию – это не волновало. Я прочел пьесу в театре Маяковского . Я не отдавал ее Эфросу, потому что в тот момент Театр Ленинского комсомола, где Эфрос работал, был разгромлен, и это было бы убийством – уничтожением пьесы, если бы отдал ему, и если б он ее поставил – уничтожением его. Спектакль Гончарова, как ты помнишь, имел огромный успех. Но Эфросу, который ставил мои предыдущие пьесы, он не понравился. И он тут же придумал свой, удивительный, и рассказал мне. В передаче, которую я записал на «Культуре», я буду подробно рассказывать эту историю, потому что она необычайно поучительна. Я буду рассказывать свою историю очень удачливого человека, у которого сняли три пьесы, точнее, всего три пьесы, но тем не менее все они были перед этим поставлены. Не просто поставлены, а лучшим режиссером, который тогда существовал, – Эфросом. И в них играли великие актеры. При этом шесть лет не разрешали пьесу про Сократа, четыре года – пьесу про Нерона. Десять лет. Чтобы продолжать так ставиться, нужна была жизнь черепахи. Но их все-таки поставили. Я подчеркиваю, что это история удачника, который всего лишь платил годами собственной жизни за эти удачи. Смешно, что Сократ все время был на кого-то похож. На Солженицына. На Сахарова. История, как я пригласил на премьеру Сократа опального академика, – это был тоже театр. Удивительный. О нем я тоже расскажу в передаче. Именно после этой истории я впервые понял: эта власть не вечна, у нее есть предел. Я им дал двадцать лет. Я чуть ошибся, но не намного. Я и потом занимался прогнозами, и небезуспешно, ибо обязан был знать, что будет со мной.
- Ты никогда не хотел уехать? Ведь ты уже тогда ставился за рубежом.
- Никогда. Потому что я твердо знал, зачем я тут. И в «Сократе» я абсолютно осознанно написал, словами Сократа: мы не договаривались с моей страной, что мне будет здесь всегда хорошо.
- Как Мандельштам говорил, сидя бездомным на скамье с женой Надей: а кто тебе сказал, что мы должны быть счастливы!
- Это правильная постановка вопроса. Все происходит правильно. Я уже тогда верил…
- …в свою звезду?..
- …в то, что жизнь управляется Им, Он есть, и все происходит как должно. Я старался воспитывать себя этим ощущением Его присутствия. Человек должен воспитывать себя до смерти. Надо помнить Льва Николаевича, который каждый день себя воспитывал. И отчитывался в Дневнике. Называлось – самосовершенствование. Надо очень внимательно следить за собой…
- У меня в стихах: обучаю душу, обучаю, мучу, как солдата на плацу…
- Мучить не надо, надо любить. И надо смотреть на себя со стороны, как на маленького ребенка. Потому что ты и есть маленький ребенок, который все время забывается и делает ошибки. Причем те же… которые учит не делать других. Я никогда не нуждался в критических статьях, в них нуждается тот, кто сам себя не судит, а я сурово разбираюсь с собой.
- За что же так себя – я гляжу на полку с западными изданиями, вон их сколько!..
- Да, я этому рад. Эти книги печатались в крупнейших мировых издательствах. Но это входило в задачу – я начал писать исторические книги чтобы рассказать не только нам, но и миру, о трагедии, которая произошла с Россией в конце Х1Х – первой половине ХХ века. Это была цель. Я нашел особый способ работы: я печатал сначала книгу на Западе, чтобы прошло время и она отстоялась, чтобы я мог жестче, беспощаднее поработать потом над русской версией. Чистота построения книги – это для меня важно, над этим я работаю до конца. Я и в прозе драматург. На моем сайте есть большое письмо Маркеса ко мне, он рассказывает, как читал моего «Николая» и «Сталина». Что это – большие пьесы и что главное в них – то, что герои живые Моя задача – карамзинское путешествие во времени вместе с читателем.
Брэнды
- Почему ты выбрал именно эти фигуры: Николай Второй, Александр Третий, Распутин, Сталин?
- Мне забавно слышать, как кто-то говорил: он всегда выбирал брэнды. Мне хотелось ответить: а вы бы попробовали в 76-м начать писать книгу о Николае Втором или в самом начале 80-х книгу о Сталине.
- Почему ты сел за них?
- Потому что я должен был объяснить себе, что произошло. Для меня тогда было абсолютно неясно, как все-таки всё случилось. Как страна, которая называлась Святой Русью, остервенело начала рушить храмы. Как крестьяне, которые еще вчера молились за царский дом, огорчаются «что казнь Романовых не им поручена». Я вначале думал, как и Розанов: «железный занавес вмиг опустился на русскую историю».Выяснилось, однако, что это был процесс, что занавес начал опускаться во времена Александра Второго и продолжил – в политике Победоносцева. И без Победоносцева, пожалуй, не было бы Ленина. Но прежде всего меня интересовали портреты живых для меня, но умерших людей. Александр Второй и Александр Третий – как будто не только не родственники, а люди разных пород. Один – комильфо, покоритель дам, другой – нечто, похожее на русского степного помещика, властолюбивый якобы, а на самом деле покорный жене и Победоносцеву, но при этом с беспощадным царским взглядом Николая Первого. Если спрашивать, кто из русских царей больше всех похож на царя, – Александр Третий. А про Николая Второго будут говорить охранники: он и на царя-то не похож. Но в истории все продумано: нужен слабый царь, чтобы было меньше крови. Говорят: русский бунт, бесмысленный и беспощадный. А французский бунт? А госпожа Ламбаль, красавица, которую с лицом, измазанным дерьмом, на пике несет парижская толпа к окнам тюрьмы Марии-Антуанетты?
- Всякая история жестока, поскольку жестока природа человеческая…К каким же выводам ты пришел?
- Я понял одну важную вещь: начинать реформы в России действительно опасно, никаких благодарностей реформаторы не получат, но еще опаснее останавливать их. И каждый, кто начинает реформу, знать должен, что он к ней прикован. Что это уже до конца. Иначе – катастрофа. В первый же год ХХ века всем было ясно, что произойдет Революция . Еще были в расцвете сил те, кто жили при Александре Втором. Они помнили про бомбы. И знали, что, несмотря на то, что задницей на страну сел умный Победоносцев, вулкан не исчез, но наоборот – ибо реформы были остановлены. А дальше была история «вишневого сада»: все говорили, говорили, что будет катастрофа , говорили и ничего не делали, а потом - революция! – и, как в чеховской пьесе, все начали танцевать.
- Ты остановишься на этом? Какая-то историческая фигура из действующих не маячит?
- Ну как же не маячить - маячат. Но сначала история – Екатерина Великая Я не могу оставить мою царскую серию без Екатерины. Она делала вид, что расейская «матушка», но она «человек со стороны». Ее уроки лукавы, они скрыты в её автобиографии, которую она написала, где очень часто все пишется наоборот. Что она поняла на самом деле – меня безумно увлекает. И если говорить о родственном мне пере, то это она. Я понимаю ее. И еще я понимаю, почти физически, Сталина. Ленин мне труднее, но дальше мне придется о нем написать. Обязательно. И, конечно, современная история. «Оратор римский говорил Средь бурь гражданских и тревоги: «Я поздно встал – и на дороге застигнут ночью Рима был!»... Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые – его призвали всеблагие, как собеседника на пир». Имею ли я право, прожив в роковые минуты, сказать: знаете, у меня не было времени, я не успел. Конечно, я обязан все это написать. Ибо главная задача – создавать правдивую карту. Подлинная история – карта для мореплавания. И если места кораблекрушений обозначаются – из самых благих побуждений – как места великих побед, горе стране! Я пытался, в меру сил, отпущенных мне… больших, очень больших, которые я использовал на самый малый процент… эту карту представить. Я считал, что кроме великого удовольствия, которое я получаю, работая, точнее, общаясь с этими интереснейшими людьми… Александр 11, Сталин, Наполеон, Распутин, Николай .. у меня есть еще долг, как я это называю: показать чертеж Господа в судьбах этих людей. И тем самым возобновить карту. Отлично зная: как бы ни возобновлял – опять все переиначат. Но моя карта уже есть. Потому что эти книги есть во всех крупных библиотеках мира и на множестве языков.
- На «Культуре» у тебя выходит новый цикл «Мой театр», а между тем, доходят слухи, что ты собираешься порвать с телевидением – отчего?
- Я давно подумываю об уходе. Мне сейчас все чаще кажется, что пули, которые летают на всех наших каналах, увы, попадают в самих создателей, и постоянный глуповатый смех на этих же каналах становится смехом над самими создателями. И скоро мыслящие люди не будут смотреть телевидение, а те кто будут смотреть, уже не будут мыслить.
7 пьес Эдварда Радзинского:
«104 страницы про любовь»«Снимается кино»«Лунин или смерть Жака»«Старая Актриса на роль жены Достоевского»«Она в отсутствие любви и смерти»«Беседы с Сократом»«Театр времен Нерона и Сенеки»
7 книг Эдварда Радзинского:
«Николай 11. Жизнь и смерть »«Распутин: жизнь и смерть»«Сталин. Жизнь и смерть»«Александр 11. Жизнь и смерть»«Игры писателей»«Наполеон. Жизнь после смерти»«Наш Декамерон»